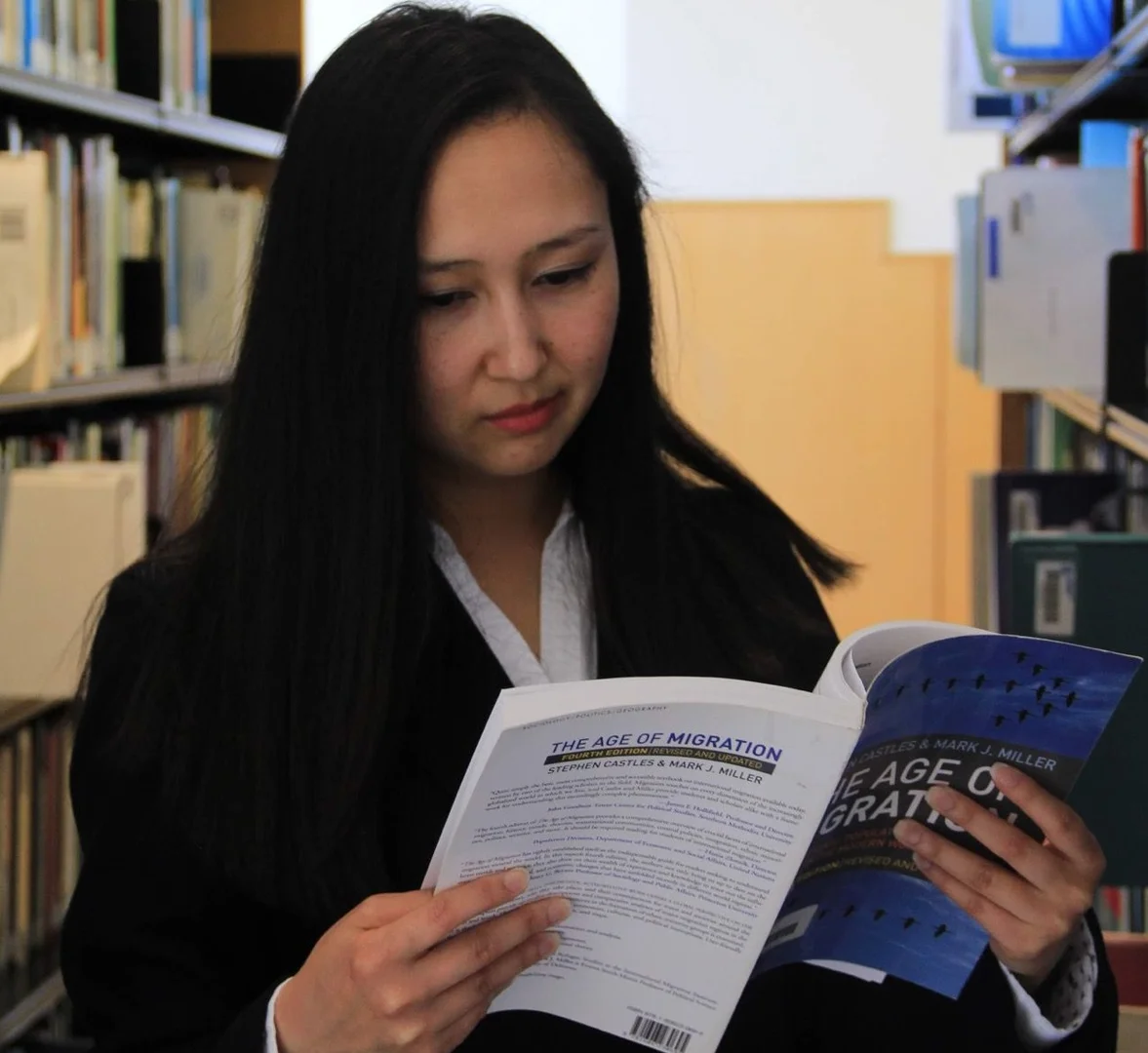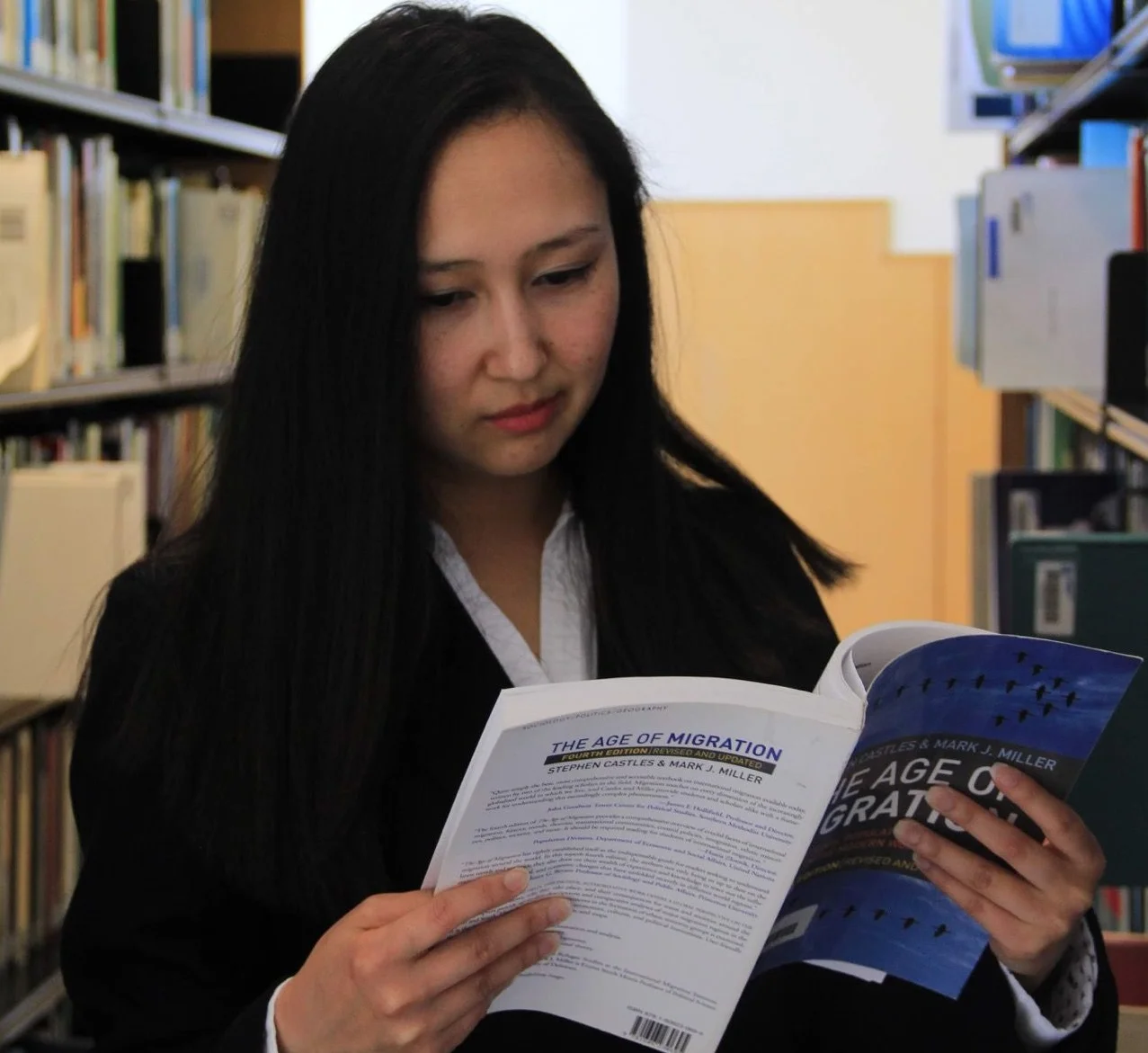В полиэтническом государстве стабильность общества напрямую зависит от способности государства обеспечивать равные права и возможности для всех этнических групп, а также создавать условия для конструктивного диалога между ними. От того, насколько эффективно государство проводит политику инклюзивности, уважения к культурному многообразию и защиты прав представителей этнических групп, зависит уровень доверия между сообществами, а значит — и прочность общественного мира.
Жылдыз Мурзабекова, специалист в области межэтнической политики, на протяжении ряда лет работала над проектами, направленными на укрепление социальной гармонии и развитие гражданской идентичности. В беседе с нашим корреспондентом она поделилась ключевыми принципами этой работы.
— Жылдыз, сегодня в обществе всё чаще говорят о важности гражданской идентичности. Как вы её определяете?
— Для меня гражданская идентичность — это, прежде всего, осознание каждым гражданином своей принадлежности к стране, независимо от этнических или религиозных различий. Гражданская идентичность — это основа для доверия между обществом и государством, а также между различными этническими группами. Если у граждан есть чувство сопричастности к общему будущему, они становятся активными участниками его формирования.
— Как государство может способствовать её укреплению?
— Во-первых, через инклюзивную политику, которая обеспечивает равный доступ всех граждан к участию в политической, экономической и социальной жизни. Во-вторых, через образовательные программы, которые формируют ценности взаимного уважения и законности.
— Вы работали в государственной системе. Какие конкретные механизмы оказались наиболее эффективными?
— Наиболее эффективными стали внедрение системы раннего реагирования и предотвращения конфликтов; мониторинг межэтнической ситуаций в полиэтнических районах; общественные приемные по межэтническим вопросам; создание диалоговых площадок для представителей этнических групп и запуск информационных кампаний на нескольких языках. Всё это помогало снижать риски напряженности и укреплять чувство единства.
Это было возможно за счёт системного диалога с местными лидерами, включения представителей этнических групп в общественные советы и проведения образовательных кампаний на родных языках этнических сообществ. Также важным результатом считаю разработку концепции развития гражданской идентичности «Кыргыз жараны» в Кыргызской Республике, которая является логическим продолжением предыдущей концепции укрепления единства народа и межэтнических отношений в Кыргызской Республике.
Особо хочу отметить инициативность и заинтересованность президента нашей страны, который не только поддерживает подобные начинания, но и выдвигает высокие требования к их качеству и результативности.
— Насколько в этом процессе важен международный опыт?
— Крайне важен. Во время учёбы в Японии я изучила историю и культуру страны. Хотя Япония – моноэтническое государство, несмотря на это, мне было интересно, как Япония сумела сохранить и даже укрепить свою уникальную культурную идентичность. Для меня Япония — это уникальный пример гармоничного сочетания вековых традиций и современного управления. Особенно близка мне их концепция «Социальной гармонии» — системного учёта интересов всех слоев населения, при котором приоритет отдаётся благополучию и здоровью нации, и созданию условий для их комфортной жизни.
— Расскажите про Японию и опыт, который Вас удивил?
— Япония действительно любопытный и показательный пример для меня, она смогла сохранить свою уникальную культурную идентичность и даже во многом её усилить. Вот, например, японская культура — с тысячелетней историей, сильными традициями, ритуалами и устойчивыми социальными нормами настолько укоренена, что её сложно растворить во внешнем влиянии.
В Японии есть чёткая стратегия поддержки национальной культуры — от медиа до образования. Язык, традиции и история активно внедряются в школьную программу, а медиа и реклама часто обращаются к японской эстетике. Что интересно, США культурно влияли на Японию, но и Япония стала влиять на США и мир через аниме, технологии, кухню, дизайн. В итоге это взаимный обмен, а не одностороннее «американизирование».

— Чему мы, кыргызстанцы, можем научится у японцев, что мы можем у них перенять?
— У японцев есть 5 приёмов, которыми они сознательно защищали свою идентичность и культуру от растворения — их иногда даже называют “культурным дзюдо”, где Япония смогла остаться собой, несмотря на мощное американское влияние:
- Переваривание через адаптацию: японцы редко берут чужое в чистом виде. Идея — взять формат, но изменить содержание под местные вкусы и ценности;
- Язык как культурный фильтр: несмотря на давление английского, Япония сохраняет японский как абсолютную основу образования, госуправления, медиа. Английские слова часто “японизируются”, и звучат уже как часть местной лексики. Это делает “американское” своим на уровне восприятия.
- Институциональная защита: сильная государственная поддержка культуры, искусства, традиционных ремёсел, активное финансирование музеев, храмов, национальных праздников.
- Обратная культурная экспансия: вместо пассивного потребления американской культуры Япония начала экспортировать свою: аниме, мангу, игры (Nintendo, Sony), моду (Harajuku), кухню (суши, рамен). В итоге баланс культурного влияния стал взаимным, а не односторонним.
- Социальный консенсус “мы — японцы”: даже с заимствованными элементами японцы ощущают себя частью одной нации с уникальной миссией; коллективные ценности (гармония — ва, уважение к старшим, ритуалы) действуют как “культурный иммунитет”; в обществе негласно считается нормой модернизироваться без отказа от “своего”.
Американцы действительно изменили японскую политику и экономику, но не смогли полностью изменить культурную ДНК. Вместо копирования США Япония создала гибрид — демократическое общество с глубоко национальными традициями.
— Исходя из этого опыта, можем ли разобрать параллель Россия ↔ Кыргызстан в контексте культурного влияния и сохранения идентичности?
— Да, конечно, Кыргызстан находился в составе Российской империи, а потом СССР, и получил русский язык, систему образования, советскую культуру как часть своего культурного ядра. У нас в стране русский язык стал языком образования, медиа, городской жизни. Кыргызский язык уходит на вторую позицию в городах, что создаёт риск культурного растворения, особенно у молодёжи.
Мы заимствуем через Россию и плюс напрямую с Запада (через соцсети и трудовую миграцию), но переработка слабее, чем у Японии: много западного или российского приходит как есть. У нас богатая история, культура и традиции (эпос «Манас», народная музыка, кочевая эстетика), но в массовом медиаполе она часто вытесняется российскими или турецкими сериалами, западной музыкой и фильмами.
Россия и Кыргызстан часто берут чужое в чистом виде и интегрируют в повседневность без глубокой переработки, что ведёт к культурным пластам из чужих элементов. При этом у Кыргызстана, в отличие от России, двойное влияние: российское + западное, и оба конкурируют с национальной культурой.

— Как мы можем решить этот вопрос?
— Мы в принципе можем перенять японский опыт для сохранения идентичности и при этом стать культурным брендом в регионе, даже под сильным влиянием России и Запада.
Наши уже поняли и потихонечку адаптируют западные форматы в кыргызском стиле: lo-fi кыргызских песен, современные кафе и рестораны в национальном стиле; Instagram и YouTube — например, кыргызский stand up и подкасты; туризм — модные глэмпинги в юртах, фестивали с современной музыкой и этно-декором.
Развитие кыргызского как основного языка массовой культуры, но при этом с адаптацией популярных слов и сленгов на кыргызский лад, например лайк басуу, пост кылуу, скан кылуу, онлайн, доклад кылуу, проект баштоо, контент, рилс, тренд, коммент, кэшбек, респект, кринж, мем и др.). Билингвизм (кыргызский + русский/английский) — как норма, но с приоритетом национального.
Государственные гранты для кино и анимации на основе эпоса “Манас” и других легенд; программы поддержки ремёсел и этно-дизайна (одежда, мебель, украшения); международные фестивали этно-музыки и искусства в Бишкеке и регионах.
Превратить айран, курут, бешбармак в международные “бренды” через красивые Instagram-форматы; снять зрелищный исторический сериал/мультсериал для Netflix на основе кыргызских героев и батыров; продавать этно-дизайн и одежду в мире (пример — “Kazakhstan Nomad Fashion” уже работает в этой нише).
В медиа и образовании постоянно напоминать, что кыргызская культура — современная и конкурентная; подчёркивать гордость за традиции не как “прошлое”, а как часть будущего; давать молодёжи примеры успешных креаторов, дизайнеров, музыкантов, которые делают контент “по-кыргызски”, но популярный в регионе и мире.
Если Кыргызстан пойдёт по такому пути, он сможет не просто сохранить культуру, а сделать её модной и превратить в источник мягкой силы в Центральной Азии — так же, как Япония превратила свои аниме, суши и кимоно в мировые тренды.
— Какой главный вызов Вы видите на будущее?
— Главный вызов — это необходимость постоянного поддержания доверия между государством и обществом, особенно в условиях глобальных изменений и информационного давления. Здесь нужна не только политическая воля, но и вовлечённость самих граждан. В конечном счёте мир и стабильность — это совместный результат усилий власти, общества и каждого человека.
— И напоследок, что бы Вы хотели сказать молодым специалистам, которые планируют работать в сфере общественных отношений?
— Не бояться сложных задач. Работать с людьми разных культур — это и ответственность, и огромная возможность для профессионального и личностного роста. Важно сохранять открытость к диалогу, учиться у международного опыта, но при этом учитывать национальный контекст. Именно так рождаются устойчивые и справедливые решения.