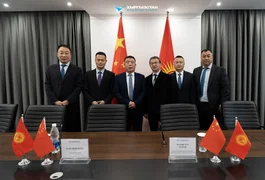Детская онкология – это не частная трагедия отдельной семьи, а серьезный вызов для всей системы здравоохранения. Уровень выживаемости детей с онкологическими заболеваниями в каждой стране во многом отражает состояние государственной медицины, а появление сборов средств в социальных сетях указывает на те участки системы, где требуются дополнительные решения и ресурсы.
Детская онкология начинается не с капельницы и не с операции, она начинается со стратегических решений на уровне страны: от диагностики и подготовки кадров до доступности лекарств и высоких технологий. Когда лечение детей с онкологией в Кыргызстане во многом опирается на профессиональный героизм врачей и поддержку общества, это говорит о необходимости дальнейшего системного развития. Каждый несвоевременный диагноз – следствие объективных ограничений, а каждый недоступный препарат – вопрос приоритетов и возможностей здравоохранения.
О текущих достижениях, нерешенных проблемах и перспективах развития детской онкологии в Кыргызстане – в интервью с заведующим отделением детской онкологии при НЦОМиД Султаном Стамбековым.

– Султан Амангельдиевич, какие проблемы сегодня остаются наиболее острыми в детской онкологии?
– Проблемы, конечно же, есть. Даже при хорошем финансировании детская онкология всегда остается одной из самых сложных областей медицины. В этом году мы завершаем очень важный для страны проект – создание условий для самостоятельной пересадки костного мозга. Это будет огромным достижением. Сейчас такие операции нашим детям проводят в основном за рубежом – в Турции или Индии.
– Что для этого необходимо?
– В первую очередь – специальные палаты с ламинарной вентиляцией, которые обеспечивают высокий уровень стерильности. Их оснащение уже завершается, и в ближайшее время мы сможем проводить трансплантацию костного мозга полностью у себя.
– А как обстоят дела с лабораторной диагностикой, без которой невозможна современная онкология?
– Нам необходимы молекулярная диагностика, иммуногистохимия, FISH-лаборатория и, самое главное, подготовленные специалисты. Детские опухоли, в отличие от взрослых, под микроскопом часто выглядят одинаково. Без современных методов невозможно точно определить тип опухоли и, соответственно, подобрать оптимальное лечение.
Во всем мире для этого применяется иммуногистохимия. Но поставить полный парк иммуногистохимии именно в нашем отделении экономически нецелесообразно — ежегодно у нас около 80 пациентов, и ради такого количества держать все оборудование крайне сложно. Поэтому мы ждем развития иммуногистохимии в Национальном центре онкологии. Если она будет внедрена там, мы будем обращаться к ним. Такая же ситуация и с лучевой терапией.
– Эти направления заложены в государственных планах?
– Да, они прописаны в стратегии. Планируется развитие и иммуногистохимии, и лучевой терапии. Недавно был подписан договор о поставке аппарата для облучения из Индии. Это очень хорошая перспектива, которая позволит лечить наших пациентов всеми методами.
– Есть ли понимание по срокам?
– Предположительно в этом году. Я не владею всеми деталями, но точно знаю, что процесс начался, лед тронулся. То же самое могу сказать и про нас. Мы подготовили проект по созданию FISH-лаборатории, которая позволяет выявлять мутации опухоли. То есть заранее можно определить, будет ли опухоль нечувствительна к стандартной химиотерапии, и сразу начать более серьезное лечение. Такое оборудование существует. Проект прошел, и в течение года мы ожидаем, что у нас будет собственная FISH-лаборатория. Это очень хорошая перспектива, которая позволит спасти большое количество детей.
Ведь, понимаете, в чем ключевая сила западной медицины? В сильном лабораторном оснащении. Там заранее по опухоли определяют, содержит ли она мутации, которые могут привести к нечувствительности к лечению. И тогда врач сразу понимает, что этого пациента нужно переводить на более серьезное лечение — применять таргетную терапию, лучевую терапию и так далее.
У нас же диагноз чаще всего ставится на основании гистологии. Мы видим опухоль, знаем ее тип и лечим по стандартной схеме. Но во всех протоколах прописано, что есть особые группы опухолей, которые требуют совершенно иного подхода. Без молекулярной диагностики мы эти особенности просто не видим.

– Что необходимо для внедрения иммуногистохимии? Только оборудование или еще и специалисты?
– В первую очередь оборудование. Но когда мы пишем проекты, мы обязательно закладываем обучение. Наши лаборанты должны пройти подготовку и уметь работать с этими методами.
– Но пока, как я понимаю, родителям приходится отправлять анализы за рубеж, теряя время и неся дополнительную финансовую нагрузку… Однако вы принимаете результаты исследований, проведенные за границей?
– Да, конечно. Мы обязательно учитываем результаты исследований при определении группы риска и выборе протокола лечения. Мы стараемся всеми возможными путями наверстать отставание в детской онкологии. При этом мы понимаем, что детская онкология – особенная область, в отличие от взрослой, она не профилактируется.
– То есть скрининговые программы здесь не работают?
– Совершенно верно. Детскую онкологию невозможно предотвратить. Дети не курят, не работают на вредных производствах. В большинстве случаев это результат спонтанных генетических мутаций. Я бы сказал, математическая случайность – произошел сбой, который невозможно заранее определить. Все мировые скрининговые программы показали нулевую эффективность, что подтверждено докладами ВОЗ.
– Тогда на что необходимо делать основной упор?
– На раннее выявление и усиление первичного звена – педиатров. Мы разрабатываем систему, при которой при появлении двух и более симптомов детской онкологии в электронной амбулаторной карте автоматически будет загораться «красный флаг», и ребенок должен быть направлен к онкологу. Поскольку в поликлиниках нет детских онкологов, именно педиатры играют ключевую роль, и их уровень знаний необходимо повышать.

– Как обстоят дела с кадрами? Достаточно ли врачей в детской онкологии?
– Хотелось бы увеличить штат. Если бы штатную численность расширили, мы бы смогли набрать еще врачей.
– Проблема больше в количестве штатных единиц или в уровне заработной платы?
– И то, и другое имеет место. Но сейчас врачи уже идут в детскую онкологию. Что касается зарплаты, то да, она остается небольшой, но если сравнивать, что было и что есть, она выросла и продолжает расти.
– Однако при такой ответственности и нагрузке разве этого достаточно?
– Да, здесь огромная ответственность, к тому же очень тяжело работать с родителями. Они все воспринимают крайне остро и нередко во всем обвиняют врачей. Но, несмотря на это, если сравнивать нынешнюю медицину с тем, что было раньше, – это небо и земля. Сегодня мы даже самостоятельно проводим эндопротезирование.
– Раз уж коснулись темы эндопротезирования. Насколько известно, детям при саркомах костей в соседних странах, к примеру, в Казахстане, Узбекистане, России, эндопротезы предоставляются за счет государства. В Кыргызстане такой поддержки, к сожалению, нет, при том что стоимость одного эндопротеза достигает 20 тысяч долларов США и это является серьезной финансовой нагрузкой для семей. Ведется ли работа по решению этого вопроса и какие перспективы здесь возможны?
– Этот вопрос мы обсуждаем. Сейчас идет поиск поставщиков. Если компании будут регистрировать онкологические эндопротезы в Кыргызской Республике на постоянной основе, возможен следующий механизм: государство закладывает определенную сумму, и по мере необходимости для конкретного ребенка приобретается протез нужного размера – средства берутся из этого фонда.
– Государство готово выделять такие средства?
– Эти средства можно закладывать в рамках общего бюджета на химиопрепараты. Исходя из среднего количества детей с таким диагнозом в год, вполне реально планировать эти расходы.
В этом году мы планируем переговоры с рядом компаний, чтобы они обратились в «Кыргызфармацию» и начали регистрацию онкологических эндопротезов, что позволит включать их в заявки по фонду высоких технологий.

– Кто потенциальные поставщики?
– В первую очередь это Турция и Германия, также рассматривается вариант сотрудничества с Китаем.
– Как в целом за последние годы изменилось финансирование детской онкологии?
– Существенно. Если 5–6 лет назад на лекарственное обеспечение выделялось около 10 млн сомов, то сейчас — от 100 до 200 млн сомов в год. Произошла централизация закупок, и сегодня мы лечим те заболевания, которые раньше просто не могли лечить.
– Тем не менее в соцсетях регулярно появляются посты, где родители или даже сами дети просят о помощи, объявляя сборы на лечение за рубежом. Почему?
– В основном это пациенты, которым требуется лечение второй линии. Раньше до этого этапа дети просто не доживали. Сейчас мы выводим их в ремиссию, лечим, но рецидивы, к сожалению, возможны. Лечение рецидивов – это уже высокотехнологичная медицина, и именно поэтому семьям приходится искать средства и обращаться за рубеж.
– Тогда какие инновационные технологии вы считаете приоритетными для внедрения?
– Роботизированная хирургия, молекулярная диагностика, таргетная терапия и многое другое. Детская онкология – это медицина высоких технологий. Если раньше выживаемость была около 20%, то сейчас примерно 50%. По прогнозам – около 60%.
– Вы упоминали международные проекты. Насколько они важны?
– Для нас крайне важно войти в глобальную платформу ВОЗ и клиники святого Иуды (St. Jude). Если мы выиграем, лекарства для первичного лечения будут обеспечены, а высвободившиеся средства можно будет направить на высокотехнологичную медицину.
– Какой бюджет сегодня объективно необходим детской онкологии?
– Как минимум 300–400 млн сомов в год, а в идеале – больше. Например, лечение одного пациента с нейробластомой, которая остается нашей болевой точкой, за рубежом обходится примерно в 300 тысяч долларов. В Кыргызстане ежегодно поступает более 10 детей с таким диагнозом. При этом требуются крайне дорогостоящие препараты: стоимость одного флакона составляет около 50 тысяч долларов. Одному пациенту за один курс необходимо два флакона, а таких курсов — шесть. В итоге речь идет об астрономических суммах.

– Как же без такого финансирования вы выходите из ситуации?
– Мы работаем строго по протоколам. При нейробластоме высокого риска пересадка костного мозга позволяет достичь излечиваемости примерно у 40% детей. Если добавить в лечение один иммунопрепарат – показатель повышается до 60%, при использовании другого – до 80%.
Если бы эффективность достигала 100%, государство, безусловно, закупало бы эти препараты. Но нейробластома во всем мире остается одной из самых трудных для лечения опухолей. Существует лишь несколько клиник, которые применяют такие препараты с хорошими результатами, и, как правило, все упирается в финансовые возможности.
– Насколько удается соблюдать протоколы лечения и насколько они соответствуют мировым стандартам?
– Очевидно, что полностью мировые стандарты мы выполнить не можем. Мы адаптируем протоколы под наши реальные возможности. Так поступают все страны, даже такие, как Турция или Россия, используют адаптированные версии протоколов.
Большую часть требований мы выдерживаем, однако есть заболевания, при которых это крайне сложно, поскольку речь идет о высокотехнологичной медицине: дорогостоящие препараты, кибер-нож, сложное оборудование. Пока такие технологии для нас недоступны. Но если сравнивать ситуацию в динамике – что было раньше и что есть сейчас, – прогресс очевиден.